А не почитать ли нам Гоголя?!
«Дверь растворилась. Ротозей Емельян и вор Антошка явились с салфетками, накрыли стол, поставили поднос с 6 графинами разноцветных настоек! Скоро вокруг графинов обстановилось ожерелье тарелок – икра, сыры, солёные грузди, опёнки, да новые приносы из кухни чего-то в закрытых тарелках. Ротозей Емельян и вор Антошка были народ хороший и расторопный. Названия эти хозяин давал только потому, что без прозвищ всё как-то выходило пресно, а он пресного не любил; сам был добр душой, но словцо любил пряное».
 Эта пространная цитата взята из третьей главы второго тома «Мёртвых душ» Н.В. Гоголя и говорится в ней о помещике Петре Петровиче Петухе, ярчайшем представителе хлебосольных, гостеприимных, обжористых, жизнерадостных небокоптителей. И взята она ради одного момента: показать, как Николай Васильевич знал нравы русские и язык русский, не салонный (да там и русского-то не было), не смесь «французского с нижегородским», а настоящий, народный, диалектный, сочный и «пряный».
Эта пространная цитата взята из третьей главы второго тома «Мёртвых душ» Н.В. Гоголя и говорится в ней о помещике Петре Петровиче Петухе, ярчайшем представителе хлебосольных, гостеприимных, обжористых, жизнерадостных небокоптителей. И взята она ради одного момента: показать, как Николай Васильевич знал нравы русские и язык русский, не салонный (да там и русского-то не было), не смесь «французского с нижегородским», а настоящий, народный, диалектный, сочный и «пряный». А уж прозвищ-то, обзывалок всяких была пропасть! Как себя только человек сам ни называл: и любушка-то я, и красавчик, и мОлодец, и молодЕц, и сукин сын (как Пушкин от радости, что окончил трагедию «Борис Годунов»), а то и растяпа, тетеря. Ну, а ежели сам себя не назовёшь, то друзья-товарищи об этом позаботятся и так «припечатают», что прирастёт это прозвище крепко-накрепко на всю жизнь.
Каких только прозвищ, связанных с внешностью человека и манерой его поведения, нет: курносый (кстати, кура тут не при чём: раньше говорили «корносый» - короткий нос), конопатый (веснушки похожи на тёмное конопляное семечко), клещеногий, колченогий (хромой, от «колтать» - хромать), лопоухий, долговязый (длинношеий, «вязы» -шея, т.к. связывает туловище с головой), белобрысый («бры» - брови), рыжий, дылда («дылдить» - шататься, «дыли» - ходули, по В. Далю), мямля, ротозей, байбак (степной сурок, ленивец) и пр. и пр.
Удивляться этому не приходится, так как о меткости русского ума и слова говорил, вернее, писал великий Гоголь в поэме «Мёртвые души», в главе, посвящённой помещику Плюшкину, Заплатанному, как его окрестили крестьяне. Полностью приведём эту великолепную цитату, т. к., как ни старайся, а ничего выбросить из неё нельзя: всё метко, всё к месту, всё на века. Тем более что нам всем только кажется, что мы знаем творчество Гоголя – ведь в школе изучали! А на самом деле давным-давно забыли его стиль, его манеру писать, его остроумие, необычайную способность подмечать не только окружающие предметы, явления, но и мельчайшие изменения духовного состояния человека, ход или полёт его мысли.
…«Выражается сильно российский народ! И если наградит кого словцом, то пойдёт оно ему в род и потомство, утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света. И как уж потом ни хитри и ни облагораживай своё прозвище, ничто не поможет: каркнет само за себя во всё своё воронье горло и скажет ясно, откуды вылетела птица. А уж куды бывает метко всё то, что вышло из глубины Руси, где нет ни немецких, ни чухонских, ни всяких иных племён, а всё сам-самородок, живой и бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает его, как наседка цыплят, а влепливает сразу, как пашпорт на вечную носку, и нечего прибавлять уже потом, какой у тебя нос или губы,- одной чертой обрисован ты с ног до головы!»
 Какое удивительное умение и стремление писателя вытащить из грязи втоптанного «доброжелателями» русского «расторопного» мужика и наградить его прекраснейшими качествами трудиться («дай ему только топор да рукавицы»), наблюдать, прощать. Знать, у «бойкого» народа могла родиться и прекрасная песня, и «бойкое» слово, которое есть всегда отражение характера целого народа. Ну, а дальше опять предоставим слово Николаю Васильевичу: «Сердцеведением и мудрым познаньем жизни отзовётся слово британца; лёгким щёголем блеснёт и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает своё, не всякому доступное, умно-худощавое слово немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово».
Какое удивительное умение и стремление писателя вытащить из грязи втоптанного «доброжелателями» русского «расторопного» мужика и наградить его прекраснейшими качествами трудиться («дай ему только топор да рукавицы»), наблюдать, прощать. Знать, у «бойкого» народа могла родиться и прекрасная песня, и «бойкое» слово, которое есть всегда отражение характера целого народа. Ну, а дальше опять предоставим слово Николаю Васильевичу: «Сердцеведением и мудрым познаньем жизни отзовётся слово британца; лёгким щёголем блеснёт и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает своё, не всякому доступное, умно-худощавое слово немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово». Перечитывать творения Гоголя – одно удовольствие. И именно сейчас, в наше время, насыщенное бульварным чтивом с его городским сленгом и ненормативной лексикой. Какого бы предмета ни касался писатель, всё он знал в совершенстве. Возьмём, к примеру, русскую кухню, кулинарию. Причём Николай Васильевич любит именно русскую кухню, а не ту, которую «выдумали немцы да французы», «не фрикасе какое-нибудь», а, например, няню. Название-то какое! Почему бараний желудок, начинённый гречневой кашей, мозгом и ножками и подававшийся к щам, называется «няней», установить не удалось. Но этой няней, да ещё бараньим боком с кашей небезызвестный Собакевич угощал Павла Ивановича Чичикова в своём имении. «За бараньим боком последовали ватрушки, из которых каждая была больше тарелки, потом индюк ростом с телёнка, набитый всяким добром: яйцами, рисом, печёнками и невесть чем».
Известно, что сам Николай Васильевич был сдержан в еде и питии и не был отчаянным гурманом, гастрономом, тем более – обжорой. Конечно, он был родом из помещичьей семьи среднего достатка, хозяйство было почти натуральное, и все продукты были, не в пример нашим дням, тоже натуральные и перед тем как попасть на стол, за несколько часов до этого, ещё блеяли, хрюкали, кукарекали, мычали и т. д. Такое было время! Невозвратное! Возможно, кое-какие детские впечатления остались и от посещения дальнего родственника Трощинского, богатого и знатного вельможи, любившего удивлять многочисленных гостей изобилием обедов и пышностью балов. И природа тогда своих даров не жалела, ибо было их у неё несметное количество. Поэтому бесчисленные наливки, настойки, варенья, соленья, всё это жарево, варево, печиво было знакомо Гоголю.
Не у одного Чичикова потекут слюнки, когда человек услышит, как Пётр Петрович Петух заказывает «под видом раннего завтрака решительный обед»: «И как заказывал! У мёртвого родился бы аппетит. И губами подсасывал и причмокивал. Раздавалось только: «Да поджарь, да дай взопреть хорошенько! Да кулебяку сделай на четыре угла. В один угол положи ты мне щёки осетра да вязигу, в другой запусти гречневой кашицы, да грибочков с лучком, да молок сладких, да мозгов, да ещё что-нибудь… Да чтобы с одного боку она, понимаешь – зарумянилась бы, а сдругого пусти её полегче. Да исподку-то, понимаешь, пропеки так, чтобы рассыпалась, чтобы всю её проняло, знаешь, с соком, чтобы и не услышал её во рту – как снег бы растаяла. Да сделай ты мне свиной сычуг. Положи в серёдку кусочек льду, чтобы он взбухнул хорошенько. Да чтобы к осетру обкладка, гарнир-то, гарнир-то чтобы был побогаче! Обложи его раками, да поджаренной маленькой рыбкой, да приложи фаршецом из сняточков, да прибавь мелкой сечки, хренку, да груздочков, да репушки, да морковки, да бобков, да нет ли ещё там какого коренья?»
Заметим, что кулебякой (по Далю, от глагола «кулебячить» - мять, валять руками, стряпать) назывался закрытый пирог со сложной начинкой, вязига – спинная струна, извлечённая из позвоночника осетра, а сычуг – коровий, свиной фаршированный желудок.
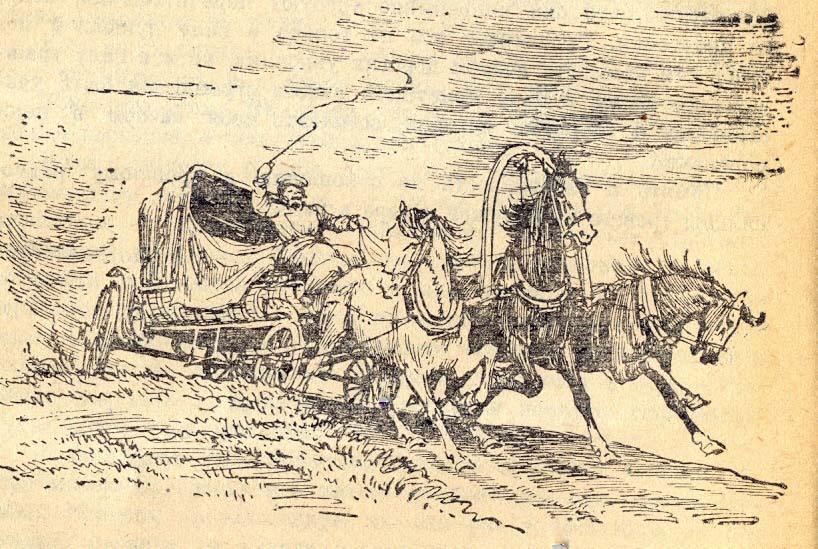 Как мог мужчина, барский сын, так хорошо знать кухню? А Гоголь всё знал не просто хорошо, а преотлично. Известно, как готовился он к написанию «Вечеров на хуторе близ Диканьки»: он просил мать и сестёр записывать и присылать ему в Санкт-Петербург поверья, обряды, песни, гадания, предания. Наверное, так было и с гастрономией. Ещё учась в Нежинском лицее, Гоголь вёл тетрадь, названную им «всякая всячина», в которую записывал всё для него интересное (во время царствования Екатерины II выпускался с таким названием сатирический журнал). Любознательность, дотошность, «накопительство» (авось пригодится) характеризовали писателя с юношеских лет. И ведь действительно, все заметки ума и сердца легли в его произведения. А какое знание русских типов, характеров! Если мужчина Собакевич налегает на мясо, то «слабая» женщина Коробочка – на мучное. «Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепёшки со всякими припёками: с лучком, с маком, с творогом, припекой со сняточками, пресный пирог с яйцом и невесть чего не было». Пришлось опять заглянуть в словарь В. Даля, чтобы узнать что такое «пряглы» (оладьи) и «скородумки» (блинки).
Как мог мужчина, барский сын, так хорошо знать кухню? А Гоголь всё знал не просто хорошо, а преотлично. Известно, как готовился он к написанию «Вечеров на хуторе близ Диканьки»: он просил мать и сестёр записывать и присылать ему в Санкт-Петербург поверья, обряды, песни, гадания, предания. Наверное, так было и с гастрономией. Ещё учась в Нежинском лицее, Гоголь вёл тетрадь, названную им «всякая всячина», в которую записывал всё для него интересное (во время царствования Екатерины II выпускался с таким названием сатирический журнал). Любознательность, дотошность, «накопительство» (авось пригодится) характеризовали писателя с юношеских лет. И ведь действительно, все заметки ума и сердца легли в его произведения. А какое знание русских типов, характеров! Если мужчина Собакевич налегает на мясо, то «слабая» женщина Коробочка – на мучное. «Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепёшки со всякими припёками: с лучком, с маком, с творогом, припекой со сняточками, пресный пирог с яйцом и невесть чего не было». Пришлось опять заглянуть в словарь В. Даля, чтобы узнать что такое «пряглы» (оладьи) и «скородумки» (блинки). Как же надо знать свой народ, чтобы с такой искренней любовью изобразить всех этих дядей Миняев и Митяев, бестелесных плотника Степана Пробку, каретника Михеева, босоногую девчушку, не знавшую, где право и лево. Знал Гоголь, видел и пьянство народное, и воровство, и лень. «Есть у русского человека враг, непримиримый, опасный враг, не будь которого он был бы исполином. Враг этот – лень» - писал он. И всё-таки как не родиться на Руси богатырю, когда есть место, где развернуться, есть ум, смекалка, удаль, ширь и доброта!
Поэма «Мёртвые души» производит на меня какое-то магнетическое действие. И впервые оно обнаружилось в далёком 1956 году, когда мы, ученики 8-го класса школы №10, что находилась тогда за Покровским храмом на улице им. Озембловского, приступили к изучению этой самой поэмы. Услышав от нас, что чтение глав трудно, непонятно, наша учительница Римма Сергеевна Кожевникова искренне удивилась и так прочитала вслух сцену «Чичиков у Ноздрёва», так подала каждое слово, обнажив его и прямой, и скрытый смысл, и намёк, и издёвку, что я с этим восторгом не расстаюсь до сих пор.
160 лет тому назад, в 1852 году, умер Н.В. Гоголь, прошли, можно сказать, века…Сколько драматических событий произошло на необъятных просторах нашей родины, как изменился мир, быт, наука, культура, а слово Гоголя, единственное, найденное им, ёмкое, «бойкое», «пряное», без которого и не изобразить-то по-настоящему жизнь, живёт, удивляет, восхищает, поражает. Нет, перечитайте всё-таки Гоголя ещё раз!
А. БЕЛОУСЕНКО,
отличник народного просвещения.











